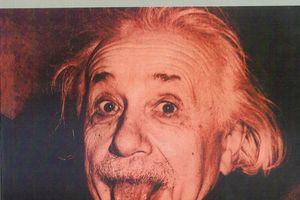(отрывок из книги Жан-Мари Робина "Социальные изменения начинаются вдвоем")
Начиная это размышление о «сейчас», я хотел бы привести несколько воспоминаний из собственного опыта, которые и стали вопросительными знаками — а то и критическими точками — в моей концепции времени.В конце 60-х годов я заканчивал психологическое образование и готовил диплом по психопатологии.Моя дипломная работа касалась детской психодраматической группы, которую я вёл около трёх лет. Я ещё тогда не занимался индивидуальной терапией — только групповой, и только психодраматической. И были некоторые аспекты функционирования этой группы — и детей в ней — которые я не понимал, несмотря на регулярные встречи с супервизором. Рабочие гипотезы он давал в таком теоретическом ключе, который я тоже не понимал. И вот однажды я об этом заговорил с моим научным руководителем — достаточно известным психоаналитиком — и тот мне сказал: «Есть одна штука, которую вы не уловили. А именно — что фрейдовское бессознательное не имеет времени». Это утверждение показалось мне крайне загадочным! А мой преподаватель не стал объяснять, что это может значить! Я всё-таки как-то разобрался с этим позже, как и с некоторыми высказываниями Гудмена: про то, когда собеседник что-то говорит, но не даёт нам вообще никаких возможностей для понимания своих слов... Мне потребовался не один год клинической практики, чтобы понять это через собственный психоанализ, через личный и клинический опыт и проиллюстрировать на примере сновидений — как в гештальтистской, так, кстати, и в психоаналитической перспективе. В снах мы можем видеть бок о бок персонажей, с которыми столкнулись вчера, и персонажей из детства, незнакомцев, знакомых, процессы предыстории, процессы текущие, прогнозы — то есть, все эти элементы будут действовать в соответствии с модальностью, которую Фрейд называл «конденсацией». Все эти элементы конденсируются, и здесь нет какой-то специфической темпоральности. То, что бессознательное не знает времени, означает, кроме всего прочего, что компоненты из вчерашнего дня, равно как и элементы двадцатилетней давности, будут иметь одинаковый статус и сосуществовать в опыте сновидения. Время здесь сконденсировано. И то же самое с настоящим моментом. Мы могли бы сказать, что в текущем моменте нет времени, поскольку настоящее, прошедшее, будущее, здесь сильно перемешаны и сконденсированы. Существуют некая толща, некие страты — накладывающиеся друг на друга и сосуществующие слои. И они даже больше, чем просто наложены друг на друга — они переплетены. Момент настоящего содержит в себе всё.

Некоторые гештальт-терапевты — такие как Франк Штемлер и Ирвин Польстер (см. книги Ирвина Польстера) — оспаривали этот «террор момента настоящего» в разных статьях, например — «Заключённые в настоящем» Польстера и других. Что касается меня, я утверждаю, что мы именно «заключены» в настоящем, поскольку вчера — уже не существует, а завтра — пока ещё не существует... Но это отнюдь не означает — и как раз в этом смысле, я думаю, и следует понимать как Польстера, так и Штемлера — что нам надо отказаться говорить о прошлом и о будущем, что надо перестать обращаться к ним. Как терапевты, мы должны осознавать, что такое обращение к прошлому или будущему происходит именно «сейчас» и имеет некое конкретное значение по отношению к этому «сейчас». К этому утверждению я ещё вернусь.
Кроме того — и это второй яркий опыт, о котором мне хочется упомянуть — я однажды разговаривал с Ирвином Польстером о том, чему научил его Гудмен, о том, что Польстер усвоил из его учения — и первое, что он мне в сущности сказал, прозвучало так: «Гудмен дал мне другую концепцию времени, и эта концепция изменила мою жизнь». Ирвин объяснил мне в двух словах свою концепцию времени, что заставило меня в очередной раз перечитать «Гештальт-терапию», чтобы «обнаружить» там подтверждение этой имплицитной концепции времени. Речь идёт о времени, которое не только линейно. То есть, в имплицитной концепции, которая в той или иной степени имеется у каждого — хотя мы этого даже не осознаём — быть пятидесятилетним значит уже не быть сорокалетним, уже не быть тридцатилетним, уже не быть двадцатилетним, уже не быть десятилетним, уже не быть пятилетним, уже не быть годовалым, уже не быть трёхмесячным... И воспитание, кстати, организовано по такому же принципу. Родители говорят ребёнку: «Послушай, тебе же не пять лет!». Да и самому частенько приходится констатировать, что уже не двадцать — когда вижу, как тяжело даются мне некоторые физические усилия...
А вот как раз концепция Гудмена в отношении темпоральности довольно сильно отличается от привычной. Он имплицитно исходит из идеи, что быть шестидесятилетним означает ещё быть И пятидесятилетним, И двадцатилетним, И десятилетним, И двухлетним, И шестимесячным, причём всё это — одновременно. Опять — своего рода конденсирование... И может быть, тут есть ещё одна вещь — хотя Польстер не говорил об этом, когда излагал мне своё понимание идей Гудмена. Может быть, можно представить себе, что быть шестидесятилетним означает ещё И быть семидесятилетним, И восьмидесятилетним, И так далее...
Я размышлял над этим в течение нескольких недель после разговора с Польстером, и для меня это многое изменило. Мне это дало некую свободу, гибкость, а с ними — и массу возможностей. Например, играть, как ребёнок, и не заботиться о том, что это мне «не по возрасту». Иметь возможность играть, контактировать с моими внуками или детьми друзей не как если бы мне самому было три года, а ПРИСУТСТВОВАТЬ вместе с моим АКТУАЛЬНЫМ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ трёхлетним возрастом. Подключение к такой модальности видения мира дало мне фантастическую свободу.
Есть слово, которое я ввёл в некоторые свои статьи — слово, которое мне нравится и которым я хотел бы иметь возможность пользоваться. Это слово — которое часто использует Жильбер Симондон — звучит как «консистентность» или «плотность». Эта «консистентность» существует в настоящий момент... «Быть шести десяти летним» «содержит в себе» и «быть пятидесятилетним», и «быть тридцатилетним» и так далее... А применительно к овощному супчику или конкретной теории, слово «консистентность» будет означать, что в них есть «густота», «материя» (в смысле удовольствия от насыщенности вкуса супа и насыщенности содержания теории — прим. пер.). Я считаю, что этот концепт консистентности интересен в нашем контексте.

Итак, идея Гудмена о темпоральности как об аккумуляции, о консистентности привела меня к мысли о том, чтобы немного по-другому теоретизировать последовательность контакта, процесс, поток... Поскольку было нечто такое, что меня смущало, когда я применял концепцию цикла контакта для скрупулёзного разбора собственной работы post factum. В нашей методике мы традиционно представляем этот цикл как линейную кривую. И всякий раз, разбирая свою работу в сессии, я видел, что двигаюсь не в линейной прогрессии, а «челночно», «вперёд-назад» в неком процессе, далеко не столь одномерном, как его описывала знаменитая кривая.
Если мы будем опираться на базовую концепцию времени Гудмена, то сможем представить эту кривую скорее как такое размещение, имея в виду что в каждый момент процесса в толще такой сборной конструкции можно найти ту самую “плотность”. Другими словами... Вот возьмём конкретный пример: мы с пациентом находимся в фазе вхождения в контакт. Он что-то пробует, вы вспоминаете, что фаза вхождения в контакт состоит в том, чтобы идти к среде и распознавать нечто как нужное — либо отчуждать (это меня касается / а это меня не интересует; это я сохраняю в виде фигуры /а вот это я возвращаю обратно в фон...). На этой фазе я иду «навстречу», «к» объекту, и в этом начале моей встречи с объектом, который я распознаю и который вроде бы соответствует тому, что мне надо, я могу понять, что в конечном итоге, может быть, это — вовсе не то, что мне надо, и что я делаю тогда? Я уточняю очертания моего желания, моей потребности, моего аппетита, моего влечения, моего «устремления к», и мое окружение также может приглашать или вынуждать меня к этому. То есть, я возвращаюсь к тому, что находится на уровне преконтакта. Это то, что имел в виду Гудмен — а может быть это был Изадор Фром— когда говорил, что преконтакт (как и другие фазы этой последовательности) одновременно являются моментами опыта и его модусами, его модальностями. Бывают преконтакты, которые так ими и останутся — то есть, никогда за ними не последует контакт, и они навсегда останутся на уровне преконтакта, и при этом нет большой необходимости рассматривать их, как незаконченные ситуации. Я вижу, как кто-то идёт, и взглядом устанавливаю своего рода преконтакт с этим человеком, которого вижу там, и опыт дальше не пойдёт. Таким образом, преконтакт может быть одновременно модусом и моментом.
В только что приведённом мной примере попытка вступления в контакт позволяет вернуться к уточнению моего желания, потребности, аппетита, и в такой модальности предъявления, это всё-таки не должно рассматриваться (и вот здесь я не был удовлетворён) как возвращение назад. Возвращения назад не существует! Это бы оправдало использование понятия регрессии. Вы знаете, что Фрейд вывел три типа регрессии: временную (возвращаться назад во времени), топическую (возвращаться от данной топической модальности к предыдущей, менее продвинутой), формальную регрессию... Временная регрессия, даже символическая, на мой взгляд, не имеет большого смысла. И то, что мы называем регрессией, зачастую может рассматриваться как прогрессия, поскольку речь может идти просто о другом способе продвижения вперёд. Но это уже предмет отдельного разговора! Когда мы находимся в фазе вступления в контакт, мы не возвращаемся назад; но на этой фазе, в самой её толще, в консистенции вхождения в контакт, продолжается работа преконтакта.
Таким образом, за счет такой вот «густоты», плотности настоящего момента, в настоящем содержится всё.
Я думаю о концепции времени, принадлежащей Св. Августину (4-5 века нашей эры). Он говорил, что есть три времени: настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Это — не прошедшее и не будущее, а настоящее время. Так, вспоминание — это настоящее прошедшего. Гипотеза такова, что именно что-то, принадлежащее настоящему моменту, способствует тому, что сейчас возникает именно это воспоминание, а не Другое. Это структура настоящего момента, структура актуального опыта, и именно благодаря ей, происходит так, что это воспоминание появляется и накладывается на опыт настоящего момента.

Постараемся понять, что я называю здесь «структурой» актуального опыта. Если я скажу вам какое-нибудь слово, например «дерево», тут же у каждого из вас появятся ассоциации. Некоторые подумают о дереве в саду, другие — о дереве, под которым играли в детстве, третьи — о дереве, упавшем на прошлой неделе у них на даче, и теперь нужно его распилить, четвёртые подумают о «домиках», которые строили на деревьях... Каждый будет ассоциировать то или иное конкретное дерево со словом «дерево», которое я произнёс. Если я стану уточнять и скажу- «забравшись на дерево», я тем самым ограничиваю ваш опыт, и тогда определённые воспоминания, и в связи с этими моими словами будут ассоциироваться и мобилизовываться некоторые определённые специфические воспоминания и образы: удовольствие от лазания по деревьям, а может быть, птицы на ветках, которых вы видели из окна... Но если я говорю не «забравшись на дерево», а, например, так: «на ель взгромоздясь»? Что тут происходит? В моём конструировании фразы есть некая особая структура, некий особый процесс, который возможно вызовет у всех присутствующих специфическое и общее для всех воспоминание — басню о вороне и лисице.
Здесь речь идёт о структуре опыта. Моя гипотеза такова: наша память и вызывание в настоящий момент разных незаконченных ситуаций, а также детских опытов и других воспоминаний, суть нечто, что будет функционировать гораздо больше из процесса, чем из содержания.
«На ель взгромоздясь» — это синтаксический процесс, совершенно отличный от «забравшись на дерево» в нашей общей истории. И если я скажу «на ель [однажды] взгромоздясь», то скорее всего, вы просто не сможете не подумать о басне.
Я полагаю, что именно так устроен настоящий момент. Настоящий момент — со всей его насыщенностью — будет функционировать исходя из начавшихся процессов. И в этом я нахожу дополнительную причину настаивать на том, чтобы слушая пациентов, мы обращали внимание на глаголы. Поскольку именно в глаголах заключены действия, заключён процесс контактирования. Контактирование, над которым мы работаем в гештальт-терапии, всегда есть действие.
Контакта без действия не существует. Ни один контакт не существует вне действия. Для контактирования нужно как минимум «направить взгляд на», «прислушаться к». В контакте всегда есть моторная составляющая. И эта составляющая в нашем языке выражается глаголами [и отглагольными формами] — ведь именно глаголы называют действие. Когда я говорю «дерево», действия нет. Когда я говорю «забравшись на дерево» или «на ель взгромоздясь», действие есть или было. Я «слушаю»действия, могу отдельно выделить глаголы и представить себе — конечно же гипотетически — например, действие, о котором мне сейчас говорит пациент. Я могу его вынуть из контекста и заново поместить в контекст, поскольку в гуще, в консистенции момента именно это действие важно: структура процесса опыта, а не содержание. Уже не помню, в какой статье я приводил пример, когда пациент говорил, что ему снилось, как он что-то писал, а потом бросил ручку. Кажется, не очень-то содержательный сон. Но действие, глагол был «бросить»! «А у вас что, создалось впечатление, что я вас бросаю? А не говорите ли вы мне тем самым, что хотели бы бросить терапию?» Ну, разумеется, я не сказал бы прямо так — с места в карьер. В настоящий момент действие конденсируется за счёт других действий, воспоминаний, проектов...

Для того, чтобы охарактеризовать подход гештальт-терапии, мы часто использовали метафору голограммы и «голографический» подход — как способ мышления. Долго говорить не буду. Голограмма — вид фотографии, дающий трёхмерность изображения. Сравните её с более традиционным видом изображения — например, со слайдом. Слайд — это прозрачная фотография. Вы направляете на неё пучок света и, благодаря оптическим устройствам, видите её на стене, причём с увеличением. Изображение 24x36 мм будет передано на стену точно, только в увеличенном виде. Если я закрою одну часть слайда, если свет будет попадать только на другую его часть, то на стене тоже будет видна только соответствующая незакрытая часть. А вот с голограммой дело будет обстоять по-другому. Если я направлю пучок света хотя бы на мельчайшую часть изображения, на стене я получу всю картину целиком. Это значит, что каждая точка голографической фотографии содержит в себе её всю. Конечно же, проецируемая на стену фотография будет тем более чёткой, чем больше пучок света «выхватит» из оригинала. И всё-таки — каждая точка «слайда» содержит в себе всю фотографию! Эта метафора иногда используется для иллюстрации подхода гештальт-терапии, для иллюстрации того факта, что целое заключено в каждом из «элементов», и это — метонимия опыта.
Можно сказать — вслед за Перлзом и другими авторам — что в настоящем моменте содержится всё. Конечно, надо ещё уметь это видеть, расшифровывать, понимать. Вероятно, опыта у вас уже много — в качестве пациента, а может быть — и в качестве терапевта. И когда вы тщательно и подробно разбираете, разворачиваете настоящий момент, вы можете понять что-то относительно истории, относительно генезиса. Иногда это может казаться пациенту чем-то магическим, когда он слышит, как исходя из настоящего момента вы формулируете предположения о его истории!
Тем не менее, правда и то, что в настоящем моменте содержится всё, и то, что там содержится не всё. Когда я слушаю музыку, если я возьму отдельно одну ноту, то у меня не будет всей симфонии. Эта нота имеет смысл и оказывает воздействие только потому, что у неё есть предыдущая нота и следующая нота. У меня есть непосредственная память музыкальной фразы, и нота, которую я сейчас слышу и которая меняется в каждый следующий момент, впишется в некий процесс, в некий поток. И именно траектория этого потока будет иметь смысл.
Таким образом, перед терапевтом возникает вопрос: с какого конца мне подступиться к настоящему моменту? Я ещё только намереваюсь его поймать, как он уже исчез. И вот здесь создаётся путаница — как например, в последней книге Даниэля Стерна «Момент настоящего в психотерапии», которая в большой моде у психотерапевтов. Его голосом психоанализ будто бы делает открытие о существовании момента настоящего! И вроде бы даже удалось хронометрировать этот момент настоящего: он, дескать, длится, около семи секунд! Понятно, что у нас совершенно другая концепция о том, что такое момент настоящего. Верно, что момент вписан в процесс — то есть, есть некое «до» и некое «после». И если я представлю это на оси — как такую стрелку времени — точка на этой стрелке будет отмечать собой момент настоящего и, как в музыке, будет некое «до» и некое «после». Как я буду это рассматривать? Я могу смотреть в «зеркало заднего вида» или же — в направлении «затем», «потом», «после». Это — два разных подхода, и ни один из них не более и не менее справедлив, чем другой. Верно, что в том, что психоаналитики называют переносом, естественная тенденция психотерапии будет состоять в опоре на происходящее в настоящий момент — на то, что происходит между психоаналитиком и пациентом. А затем — в попытке вернуться к первичным схемам, к матрице отношений Отец-Ребёнок или Мать-Ребёнок, к той манере, в какой мы научились устанавливать отношения в наших ранних модальностях — и при этом всё будет основано на предположении, что то, что есть здесь и сейчас, является попыткой в точности воспроизвести эти инфантильные схемы. Значит, в таком подходе, основанном на гипотезе переноса, мы бы уделяли много внимания связям между настоящим и прошлым. Говоря схематично, здесь возможны два основных направления — в зависимости от той или иной психоаналитической школы: использование настоящего для лучшего понимания прошлого, либо использование прошлого, чтобы лучше понять настоящее. И такой выбор имеет смысл. Если вы посмотрите на момент настоящего, то ваше присутствие здесь — это результат некой истории, некоего жизненного пути. Может быть — результат вашей терапии, которая вылилась в желание самому стать терапевтом, а сам этот проект — стать терапевтом — может быть, восходит ещё к вашему детству, поскольку, быть может, уже тогда у вас было полно симптомов и вы уже являлись терапевтом для собственной семьи!... Настоящий момент может рассматриваться как продукт прошлого, как результат длительной истории. Конечно, если мне нужно было бы рассматривать только настоящее, ваше присутствие здесь не имело бы большого смысла: если бы ничего не было позади и ничего — впереди, и если бы вы знали, что должны умереть через минуту, может быть, у вас нашлось бы что-то поинтереснее, чем слушать меня.
Изолированное настоящее не имеет смысла. Мы также можем понимать момент настоящего, исходя из будущего, то есть — из вашего проекта стать терапевтом или ещё более опытным терапевтом, из вашего проекта войти в сообщество коллег, с которыми вам будет приятно работать. То есть, ещё и ваше будущее придает смысл вашему моменту настоящего. Это — выбор, другой методологический выбор. И один выбор не более верен, чем другой, это просто выбор направления работы.
Даниэль Стерн как-то сказал на Национальной Конференции по гештальт-терапии — эта фраза заставила меня подпрыгнуть — я её процитирую: «Если бы настоящее не могло изменить прошлое — то никакой психотерапией и заниматься бы не стоило». Можно понять, что он хотел сказать, но здесь допущено серьёзное эпистемологическое искажение, поскольку психотерапия никогда не меняла прошлого! Существует только настоящее прошлого (см.у Св.Августина). И что, возможно, удастся поменять — это представление в настоящем о нашем прошлом. Влияние прошлого на настоящий момент. И если бы я был плагиатором и захотел бы присвоить себе идею Польстера, то вывернул бы его формулировку на свой лад: перестать быть «узниками прошлого».

Вот что я думаю: с некоторыми пациентами очень полезно обратиться к их личной истории, пойти за их рассказом — и за историями, которые они сами себе рассказывают. Моё прошлое... Ясно, что это — некая история, которую я люблю себе рассказывать. И совершенно не обязательно, что всё происходило так и происходило, но у меня есть потребность именно так себе это рассказывать (такая «риторическая позиция», как сказал бы Гудмен). Выходит, что эта история — такая же фикция, как и моя идентичность... И она мне очень нужна, там есть точки опоры. Но это — фикция. Фикция, которая может иметь целесообразность, эффективность и пользу.
Я делаю следующий выбор: если мы находимся в терапевтической перспективе, то изменить мы можем только то, что будет дальше. Мы не меняем прошлое, но мы можем направлять некое «затем», «next». Часто «next» из гудменовского «here, now, next» переводится как «здесь — сейчас — затем», но американское слово «next» богаче — означает как следующее во времени, так и следующее в отношении расстояния. Здесь — это пространство, сейчас — это темпоральность, a next обозначает время и пространство. Это то, что соседствует во времени и в пространстве. Справедливее всего, вероятно, было бы сказать «ближайшее время».
Моя рабочая гипотеза и моё предложение — сфокусировать наш подход предпочтительно на «сейчас и затем», то есть, рассматривать каждый момент как стремление к следующему моменту. Каждое мгновение содержит некий проект.
В связи с этим я вернусь назад к Гуссерлю, одному из основателей феноменологии. Не существует темпоральности без осознавания темпоральности. Гуссерль много работал над сознанием. Зачем? Чтобы научить нас простой вещи — тому, что сознания не существует. Оно не существует как таковое. Что существует, так это «сознание чего-то», не существует сознания без объекта сознания. Так же точно, как воспоминание есть всегда «воспоминание о», и воспоминание без содержания таковым не является. Это сознание, которое является сознанием чего-то, имеет своё направленность, и это то, что он называет интенциональностью сознания. И вот это и есть философская составляющая. Я, как пси — психотерапевт, психолог, кроме того думаю, что эта направленность не нейтральна. Чем она поддерживается? Курт Левин (см. книгу Курта Левина «Теория поля в социальных науках»), например, как и многие другие, будет утверждать, что такая направленность будет ориентирована потребностью. Или, точнее, и мне очень нравится такой способ об этом говорить, понятию потребности он предпочитает понятие «псевдопотребность», поскольку мы всегда немного «не попадаем». И мы тоже сами об этом говорим. Таким образом, потребности или псевдопотребности будут организовывать нашу интенциональность, то есть, заставлять нас нацеливаться. Если я смотрю в этот момент именно на тебя, то в этот самый момент я об этом ничего не знаю, но если мы дадим себе труд «развернуть», то увидим, что если моё сознание доходит туда, значит имеется некая нацеленность, и что она опирается на некий проект, интенциональность, имплицитное. А наша работа терапевта может состоять в том, чтобы выявлять эту нацеленность, эту интенциональность, которая будет конкретизироваться только через некую часть этого потенциала. Если я смотрю именно на тебя, это такая смутная, размытая интенциональность, и она может конкретизироваться в форме приглашения на свидание или на чашечку кофе, а может и во многих других формах, даже в виде приглашения к совместной жизни! Вначале этот спектр очень широк, но когда мы доходим до регистра интенции, спектр постепенно сужается, становится намеренным, выбранным, ограниченным. Работа терапевта состоит, может быть, в сопровождении пациента в его возвращении к интенциональности, к состоянию интенциональности, в ее необработанном виде, к ощущению, к переживанию, которые связаны с интенциональностью. Рабочая гипотеза — это что всегда имеется интенциональность, что всегда есть id, который движет каждой ситуацией. И id всегда подталкивает к «затем» и никогда — к прошлому, разумеется. Даже если мы иногда говорим, что пациент хочет вернуться назад, или что он «заперся» в повторении прошлого, id всегда подталкивает к «затем».
И когда я называю мой момент настоящего, можно понимать момент настоящего как содержащий «затем». Если я говорю «я голоден», я высказываю мой момент настоящего, но и имплицитно сообщаю, что я хочу, чтобы было некое «затем». Я это не называю эксплицитно, называю только своё телесное состояние. Конечно же, это не значит, что терапевт должен немедленно отвечать на имплицитное, как только его услышит. Если пациент говорит «мне грустно», он всего лишь говорит «мне грустно», и таким образом называет свёрнутое внутри желание, направление смысла, но я не знаю, какого. Он этого тоже не знает. И я не знаю... Нам предстоит вместе это развернуть. Значит, моя работа терапевта состоит в том, чтобы помочь пациенту поддержать настоящий момент, чтобы он охотнее ориентировался на «затем», чем на прошлое. Если я обращаюсь к прошлому, я поддерживаю деятельность функции personality, воспроизведение одного и того же. В моменте настоящего есть всё, и есть новизна, присутствующая в каждый момент.

Несколько слов по вопросу о самораскрытии терапевта, поскольку это тема, которая имеет самое непосредственное отношение к вопросу «сейчас».
Многие гештальт-терапевты полагают, что очень важно сообщать что-то о себе. Я думаю, что психотерапевт, который произносит по одному слову раз в полгода, тоже практикует — каким бы парадоксальным это ни казалось — некую форму самораскрытия: он сообщает, например, о том, что у него запор. (Смех в зале). Я использую метафору запора, поскольку вспоминаю слова одного пациента, который ещё в 40-х годах как-то сказал основателю психодрамы Морено: «Мэтр, если б нужно было умирать, уж лучше от поноса — с вами, чем от запора — с Фрейдом». В соответствии с теорией коммуникации Вацлавика (см. книгу Пола Вацлавика "Психология межличностных коммуникаций") и др.: «Мы не можем не коммуницировать». Сидя молча, я говорю что-то о себе. Главное — не думать, что ничего не говоря, мы полностью молчим. Таким образом, эти психотерапевты являются лишь белым экраном, не в обиду им будет сказано. Неправда, что они нейтральны. Пациент постоянно реагирует на их молчание. И речь пациента является реакцией на их «вербальное молчание».
Гештальт-терапевт может использовать некоторое самораскрытие, но что я часто отмечаю в супервизиях и непосредственных наблюдениях, это то, что такое самораскрытие терапевта зачастую очень перегружает пациента. Когда терапевт начинающий, он часто воображает, что говоря о себе, даёт поддержку пациенту. Я думаю, что это иногда может быть полезно, но что иногда это может быть очень назойливо, интрузивно, а главное — это может что-то отнять у пациента, чего-то лишить пациента: это у него крадёт нечто из раскрытия его собственного опыта.
Это создает псевдо-соучастие, которое может быть абсолютно демагогическим. Речь не идёт о том, чтобы начать рассказывать свою жизнь или какие-то истории с моей бабушкой. Зато, самораскрытие терапевта может быть фундаментально важным в том, что касается здесь и сейчас. Здесь и сейчас — это значит, что я могу сказать что-то из моего «сейчас» в той мере, в которой моё «сейчас» совместно строится в нашей встрече с пациентом. Если сейчас мне грустно, эта грусть является совместной конструкцией нашей встречи. И если сейчас я в ярости, эта ярость есть продукт нашей встречи. Конечно же, эта грусть, может быть, относится также и к моему прошлому, и связана с моей историей, поскольку то, что сейчас говорит мне мой пациент, реактивирует всю толщу моего опыта. Но это не касается пациента, и во всяком случае, даже если эта грусть и связана с моей историей, этот аффект был разбужен, активирован нашей встречей сейчас. Называние того, что я сейчас переживаю, способствует прояснению процесса, который разворачивается здесь и сейчас между тобой и мной.
Если я обеспокоен в данный момент, это беспокойство является продуктом сессии. Я думаю, что было бы интересно изначально предположить, что это беспокойство не принадлежит только мне. То есть, методологически относить его к недифференцированному. Это и есть изначальная недифференцированность сессии, мы исходим не из позиции «мы похожи», а из позиции неопределённости. И если я начну приближаться к кому-то, а он мне скажет: «когда я вижу, что ты приближаешься ко мне, я тревожусь»... У терапевта может возникнуть искушение исследовать тревогу этого человека — «что тебе это напоминает?», «какое оно, твоё беспокойство?», «как ты чувствуешь его в теле?» и так далее. При этом имплицитно транслируется: «это беспокойство — целиком и полностью твоё собственное», «я ведь так по-доброму, с такой нежностью и заботой подошёл к тебе», «ни на секунду нельзя допустить, что это беспокойство даже в малейшей степени могло бы принадлежать мне»!!! В действительности, я не обязательно осознаю, каким образом я могу восприниматься пациентом и вообще другими. Пациент(ка) может воспринимать всякие вещи, которые будут недоступны моему восприятию. Что-то обо мне, например, что для неё может восприниматься гораздо более угрожающим, чем я могу себе представить. Что означает, что если её беспокойство может быть и говорит о ней самой/о нём самом, то оно говорит также и обо мне. И если я — такой угрожающий, это может быть ещё и потому, что когда я воспринимаю этого человека, совершенно того не осознавая, мобилизуется мое собственное беспокойство. И мой способ управлять моей тревожностью вполне может состоять в том, чтобы изображать из себя сильного перед ней, то есть — «вывернуть наизнанку» процесс. Может быть, за этой моей тревогой стоит какой-то человек, который производит на меня впечатление.. И я буду пытаться оставаться с этим ощущением. Итак, методологически я соглашаюсь не знать, кому принадлежит это беспокойство. Его обозначает сам пациент/сама пациентка и само пребывание в ситуации «здесь и сейчас». Это означает, что это — продукт «сейчас», продукт ситуации, нашей встречи, её/его контакта в отношении меня, моего контакта в отношении неё/него, вот что продуцирует беспокойство, которое она испытывает, — поставим его в центр внимания и подробно рассмотрим все его составляющие и разберем! Что это значит для неё, что это для меня, что она уловила из своего, что уловила из моего, что я уловил про неё, что — про себя, что может её беспокоить во мне, что может меня беспокоить в отношении неё и т.д. И, таким образом, у нас есть всё же шанс, пусть невеликий, но выйти за пределы «колеи», то есть — наших автоматизмов, из наших дорожных разметок, и окажется, что она — такой человек, который будет беспокоиться всякий раз, когда мужчина подходит или обращается к ней, а я представляю себе, что я могу быть только нежным, добрым, поддерживающим, и что я просто не могу никого напугать. Каждый из нас таким образом столкнётся со своей позицией, со своими верованиями по поводу себя самого, что как раз и называется функцией personality, и новизна ситуации вообще не будет приниматься в расчёт. Таким образом, самораскрытие терапевта служит для того, чтобы назвать — когда это необходимо, кратко, ненавязчиво, так, чтобы это не стало фигурой, которая отвлечёт внимание клиента и выведет его из сосредоточения на фигуре, которую он в данный момент строит для меня и которая предположительно его интересует. Я потихоньку пользуюсь тем, что могу переживать, как одним из материалов для строительства фигуры, которую он сейчас создаёт. И это самораскрытие, я его рассматриваю лишь по отношению к моему переживанию настоящего момента. То есть, в связи с продуктом нашего контакта.

Понравилась заметка? - Подпишитесь на нашу рассылку :)